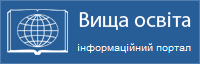Арцибашева Тетяна Миколаївна, доктор культурології, професор кафедри культурології Курського державного університету (Курськ, Росія).
Особенности формирования и модернизации
российской государственно-политической традиции
Если обратиться к геополитической карте народов, населявших в раннем средневековье Русскую равнину, придется отметить, что оседлость и территориально-общинный принцип социальности сделали тех, кого называют славянами, не только основой этнокультурной консолидации, но, в определенном смысле, «государствообразующим элементом» в ареале их совместного расселения с номадами и древнеиранцами.
Гидронимика степных территорий юга и юго-востока РФ, бывших в период Великого переселения эпицентром формирования «империй варваров», красноречиво свидетельствует об одновременном проживании рядом с разнообразными кочевниками славян (асов-аорсов-русов-полян)[1]. И в этом смысле именно их судьба, разделенная с иноплеменным славянским и инородным населением, – стержень средневековых геополитических событий, непосредственно затрагивающих Центральный регион.
К концу VIII – началу IX века арабские источники фиксируют в Восточной Европе три мощных объединения славян: Куябу, Славию и Артанию, локализация которых в современной историографии представлена весьма гипотетически. Тем не менее, в рамках высказанных историками догадок правомерно соотнести названные легендарные прагосударственные образования с неоднократно упоминаемыми в аутентичных нарративных источниках Нижней, Средней и Верхней Русью и, ориентируясь на направления славянских миграций, хронологию заселения и активность этнокультурных процессов, очертить пространство текстуально засвидетельствованной политической консолидации границами Русской равнины, признав достоверными как общепринятую догадку о соответствии Куябы – Киеву, так и широко оспариваемое сопоставление Арты-Арсы с Рязанью, Ростовом[2] или Тмутархой (Танаис)[3].
Отметим лишь некоторые научно обоснованные предположения о «колыбельном» (до киевского периода) государстве Русь. Так И.Е. Саратов, анализируя разноплановые исторические, археологические, лингвистические данные и отталкиваясь от значения вайнахского слова «арта» – поле, определил местоположение многоэтничной «Артании» (Арсании) в степной зоне севернее Кавказского хребта с центрами в бассейне Донца и Дона, Северном Приазовье и устье Кубани[4]. Н.А. Ульянкин, основываясь на очевидном единстве материальной культуры, локализовал Русь VI–VII вв., назвав ее Днепровской, на обширном пространстве от гг. Киева и Чернигова до современных Курска и Воронежа[5]. Пределами Днепровского Левобережья и бассейнов Среднего Дона и Верхней Оки очертил границы сильного «прарусского» государства VII–VIII вв. В.В. Седов[6], одним из первых отвергнув априорное мнение о подчинении этой земли Хазарскому каганату. Не менее убедительно и утверждение Е.С. Галкиной, на разноплановом фактическом материале доказывающей, что «к концу VIII века на территории от левобережья Днепра до Среднего и Нижнего Дона образовалось единое экономико-политическое объединение с центром, очерченным лесостепным вариантом салтовской культуры. Туда входили оседлые племена североиранского (русы) и славянского происхождения, а также кочевники сармато-аланы (асы) и праболгары, первоначально занимавшие подчиненное положение и постепенно переходящие к оседлому образу жизни. Данное политическое объединение имело обширные торговые связи и самую развитую в Восточной Европе того времени производящую экономику <…> Анализ материальной культуры и письменных источников показывает, что это объединение по уровню развития соответствует раннему государству»[7].
Самым веским аргументом в подтверждение реальности существования древнейшего государства «Русский каганат» на юге России и возможной принадлежности к нему, в том числе, областей Черноземья, являются крупнейшие археологические памятники Днепровского Левобережья: территориально «спорный» Саркел[8], Битица[9], многочисленные городища салтово-маяцкой культуры (Красное, Алексеевское, Колтуновское, Мухоудеровское, Верхнеольшанское и Маяцкое) правобережья Тихой Сосны и ее притоков, закрывавшие в начале IX столетия стасорокакилометровую границу со Степью. Не менее выразительны и косвенные признаки. В пределах распространения салтовской, боршевской, роменской культур отмечается высокое развитие ремесла, скотоводства, земледелия, огородничества и садоводства, а главное, хождение «варварских подражаний» куфическим дирхемам[10] – собственное монетное обращение, наряду с наличием рунического письма являющееся важнейшей приметой государственности.
Материально засвидетельствован и факт того, что с начала IX века Северский Донец[11], Ворскол и Курское Посемье превратились в восточный форпост славян Северского союза на границе с совершавшими беспрестанные набеги степняками. Только на территории Курской области вдоль рек Сейм, Свапа, Тускарь, Псел, Курица, выявлено 66 славяно-русских городищ, составлявших единую систему[12] мощных мысовых укреплений, организация которой, как считают историки, была бы невозможна без существования собственных властных структур[13], наличие коих подтверждается, в частности, обнаружением на Горнальском городище (Курская обл.) в раскопе княжеской усадьбы Xстолетия фрагментов станка для чеканки монет и произведенных здесь же серебряных подражаний арабским дирхемам[14]. Опираясь на мнение одного из авторитетнейших современных историков А.А. Горского, убежденного, что «…если в IXв. в южных землях Восточно-Европейской равнины и велась чеканка монет по образцу дирхемов, то ее нужно связывать не с Хазарским, а с Русским каганатом»[15], – отметим эти находки как бесспорное свидетельство вхождения части северянской (читай – центральнорусской) территории в прагосударство русов.
Многочисленные артефакты (данные археологии, этнологии, исторической географии, этнографии, лингвистики и др.) показывают, что в период массового расселения восточных славян южные и юго-восточные степные и лесостепные области Русской равнины были плотнее заселены, отличались культурной преемственностью и хранили следы великих предшествующих эпох. Русь родилась под этим небом и этнически, и политически. Еще во времена Мстислава, сына князя Владимира, Тмутаракань считалась «дединой и отчиной» русских князей, и даже в XIIвеке черниговских властителей не перестали называть князьями тмутараканскими[16], а значит, тайна зависимости Тмутаракани и Чернигова, как и «тянущих» к ним Курска, Смоленска, Суздали, Рязани и Ростова Великого скрывает разгадку первоначальной истории Русской земли как своеобразного гео- и социокультурного организма.
Сложившаяся в раннем средневековье древнерусская иерархическая система и дружинная лексика синтезирует черты славянской, иранской и тюркской политической традиции, о чем свидетельствуют чередующая языковые термины и этнокультурные элементы материальной культуры, социальная терминология, восходящая к арийской южно-этническая титулатура, мифологический и археологический материал. И хотя колонизационная экспансия властной элиты была направлена на север и северо-восток, где жили менее организованные племена и были свободные земли, политические помыслы Руси не случайно до определенного времени устремлялись на юг и запад, демонстрируя давние связи и преимущественную обращенность к культурным богатствам и имперскому опыту Средиземноморья.
Выход в конце IX столетия на восточно-европейскую арену Киевского государства и призвание летописных варягов на княжение, имеющее, вероятно, более глубокие причины и пока сокрытую от исследователей логику, – лишь продолжение начавшегося ранее политического строительства. Отметим, что первые киевские князья именовались каганами. Об источнике такой титулатуры существуют разные мнения: одни утверждают ее хазарское, другие бесспорно русское происхождение. Хотя этимологическая трактовка однозначна: каган – тюркское обозначение высшего статуса военного правителя, возглавляющего объединение племен, имеющих своих вождей. То есть, каган – звание, равное императорскому. И в этом смысле, какой бы ни была причина заимствования титула, сам факт его использования – не только свидетельство наличия определенной традиции, но и веский аргумент культурно-политической преемственности власти Рюриковичей. На практике это означает, что «новорожденная» Киевская держава конгломерирует (как минимум) уже существующие, управляемые своими племенными вождями политические образования, в том числе и славянские с «князьями» во главе. В контексте же осмысления предшествующих водворению Олега даннических отношений и с учетом последующих событий можно говорить о долголетнем противостоянии славян-русов и Хазарии, закончившемся поэтапным «перехватом полюдья» у хазарского кагана[17] и постепенным утверждением воли князя-руса над всей территорией полиэтничной Средней Руси.
Итоги целого ряда археологических экспедиций подтверждают, что дружина киевского князя Олега в конце IX века занимает слабо заселенное северянами Черниговское Подесенье, о чем сообщает «Повесть временных лет»: «Победил северян, и возложи на них дань лъгку, и не дал им хазарам дани платить». При этом множество запустевших после кампании Олега поселений юга и появившиеся «следы» роменской культуры на севере Центрального региона позволяют историкам предполагать, что часть активных северян ушла от новой власти в Залесье и Волго-Донское междуречье. В то же время любопытная оговорка летописца, под 907 г. упоминающего князей отдельных, не подвластных Киеву земель: Мала (древляне), Рогвольда (Полоцк) и Тура (Тур), – соотносит всех других с Русской землей, и, называя властителей Чернигова, Переяславля, Ростова, Любеча и других русских городов вассалами Олега («по тем бо городом седяху великие князи под Олгом сущее»[18]), свидетельствует не только о пребывании северян «под его рукой», но и об определенном единстве Руси и ее социально-политической соотнесенности с Киевом.
Немаловажен и археологически засвидетельствован факт последующего роста племенных центров, ремесленных поселений и целого ряда укреплений Поосколья и Посемья. Аналогичные процессы расширения пространства княжеской власти, межэтнической консолидации и активизации торговли наблюдались с конца Xвека и на Смоленской земле, где Гнездовский Смоленск стал мощной защитой западной границы Руси. Этот и другие, в частности, неупомянутые примеры усиления городов Северо-Востока, позволяют увидеть в складывающемся порядке хозяйственных отношений и административного управления наличие изначального потенциала вотчинной (племенной) или городской (корпоративно-сословной) экономической и социально-политической самостоятельности отдельных центральнорусских «городовых областей».
Государственно-политическая система Киевской Руси, продолжая предшествующую традицию, развивалась как державная в буквальном значении этого понятия. Она собирала и удерживала возникавшие на почве экономических интересов и межкультурных коммуникаций этнически неоднородные, сохранявшие родовые связи и племенные традиции промыслово-торговые области. Основа специфики политической формы государственности – особенности древнерусской поселенческой структуры, отличавшейся ранним включением социума в межрегиональные торгово-цивилизационные процессы, ускорившие ход социокультурного развития и этнической ассимиляции. Структура формировавшейся власти – своеобразный триумвират, в различной степени дублируемый в подвластных землях и городах: воля князей, боярской думы и городского вече. Ее экономическая база – меновые отношения и приносившая солидный доход международная торговля, в немалой степени ориентированная на рынок пушнины.
То есть, первоначальную Русь и, в определенной мере, Русь Киевскую можно представить как полукочевое промыслово-торговое государство, меховой и соляной[19] рынок в котором сыграл роль своеобразного катализатора межэтнических взаимоотношений и социальной дифференциации[20], дав толчок развитию субэтносов и возникновению обслуживающих торговые пути городов. Преобладание жаждущих расширения сбыта ремесла и торговли, обеспечиваемая открытостью ландшафта и отсутствием частной собственности на землю свобода миграций вели к утверждению опирающегося на воинство «единоправству», распространяющемуся на области торгового и даннического интереса. Так русское социально-политическое культуротворчество получило централизаторский импульс, своеобразно преломленный в эпоху ранней феодализации (удельный период) и суперконцентрировано выраженный авторитаризмом монархического и имперского периодов.
Ядром и эпицентром разворачивающегося «державно-государтвенного» процесса стала «Русская земля» – геополитическое и геокультурное образование, вобравшее в себя территорию рождения и ментальные признаки изначальной Руси и отразившее интенсивность миграционных передвижений верхних общественных слоев, осуществлявших право проникновения княжеской власти в области племенного расселения. Субъектом социального культуротворчества выступили связанные единством экономических интересов городское купечество и княжеская дружина. Ареалом исходного распространения централизованной государственности, военно-демократической власти и нового уклада жизни стала лесостепная зона Русской равнины. Конечным результатом – формирование единого экономического и геокультурного пространства, зафиксированного в народном сознании как архетипический стереотип под названием «Русская земля».
Обладая потенциально подвижными очертаниями, «Русская земля», по мере освоения Восточно-Европейской равнины и изменения геополитической ситуации, сдвигалась и расширялась вслед за перемещением своих князей, не выходя, вероятно, за пределы традиционных связей и наследственного права. Притом, что происхождение и наиболее частое употребление этого, связанного с Южной Русью термина первоначально ограничивалось рамками территории, географический ареал и история сложения которой пока не до конца ясны. И очевидно, что именно здесь таится разгадка начала русской государственности, сокрыты резоны выстраивания порядка «старшинства городов» и переноса столиц – традиции, исторически засвидетельствованной в средневековый период в границах Средней Руси. Как пишет А.П. Моця, «…постоянные перемещения, разнообразные интенсивные контакты между княжескими семьями и их вассалами позволяли поддерживать на высоком уровне связи между отдельными регионами. <…> Возможно, именно из-за этих широких связей и специфики их осуществления в определенные хронологические отрезки времени в состав «Русской земли»с точки зрения летописца могли входить различные земли – княжества и их правители»[21]. Однако принадлежность к ней (по крайней мере, в XI–XII вв.) Северской, Смоленской и Рязанской земель, учеными не оспаривается. Так же, как и наличие, по выражению А.Е. Преснякова, заложенной в жизни Северо-Восточной Руси «традиции народно-хозяйственных, политических и культурных отношений к Черноморскому югу, форпостом которого на дальнем севере была Ростово-Суздальская земля»[22]. В контексте же рассуждений, затрагивающих тему рождения «руси» как культурного организма (этноса, государства, власти, традиции), этот факт оказывается не только дополнительным аргументом связанности Юга и Северо-Востока Руси или коренным признаком миграционно-этнического формирования ядра национальной территории, но и определенным обоснованием причин открытости и восприимчивости отечественной культуры.
Заметная активизация хозяйственно-экономического, социально-культурного и административно-управленческого развития Центрального региона отмечена с XI века. С разной степенью интенсивности ширились промысловые и земледельческие зоны, возникали торгово-ремесленные и княжеско-административные городские центры, шла кристаллизация самостоятельных земель: Северской, Смоленской, Рязанско-Муромской, Владимиро-Суздальской. Этот разворачивающийся на фоне государственной христианизации, обеспеченный идейно, политически и законодательно (реформы Ольги, Владимира и Ярослава Мудрого) процесс первоначально отражал экстенсивную земельную колонизацию, однако изменение в конце XI–XII вв. евразийского геополитического и торгово-коммуникационного баланса, нарастающее давление Степи усилили поземельную, а затем и удельную самостоятельность освоенных территорий. Характерно, что явная дезинтеграция, проявившаяся в усобицах князей, касалась «лишь внутренних переделов в рамках единого политического образования, понимавшегося как Русская земля в широком смысле»[23], что на фоне изменения хозяйственной структуры, отсутствия наследственно закрепленного землевладения, демографической дестабилизации и ослабления централизованной власти скорее представляло борьбу за собственность и политический приоритет.
Возрастание роли отдельных, считавшихся ранее периферийными земель и городов – процесс закономерный и далеко не однозначный. В первую очередь он отражал нестабильность геополитической ситуации, итогом которой стало запустение южных и юго-восточных «отчиче» земель – переяславщины, черниговщины и рязанщины. Одновременно в корне изменились социально-политические и общекультурные основы общества: старая Киевская Русь, взаимоотношения в которой регулировались уставами и грамотами и касались, в первую очередь, данничества, не создав фундамента политического единства, завещала прочные связи единства земского или поземельного, позднее обретшего свою высшую форму в крестьянской общине и моногосударственности. «Феодальная идеология, порожденная слиянием политической иерархии с землевладением, а, следовательно, с династическими отношениями, само понятие государства проецировало в понятие правящего дома»[24], что в ситуации потери части территорий наследственных доменов (Киева, Переяславля Киевского и Чернигова) и безмерного разрастания княжеской династии породило борьбу за первенство и спровоцировало раздел слабоосвоенных центральнорусских областей.
В условиях прогрессирующего роста значимости частной собственности на землю, становившуюся стабильным источником богатства, право на власть над определенной территорией все больше сливалось с правом владения ею. Последовательное формирование системы земельного пожалования за службу (первый такой пример – войскоАндрея Боголюбского) и утверждение административной структуры наместничества превратили бояр и дружинников одновременно и в феодалов-землевладельцев, и в представителей власти: посадских, тысяцких, данщиков, вирщиков и тому подобное, получавших «кормовые» – долю в государственном доходе.
Стремление осесть на земле и обрести родовое гнездо, ослабление династийных связей и усиливающаяся тяга князей к «самодержавству» и супрематии, «межевая» борьба вызвали последовательное обрушение державной структуры сложившейся социально-политической целостности. Одновременно с этим в отдаленных северо-восточных землях, где «северные князья боролись не за старшинство, а за силу»[25], зародились «пробивавшиеся сквозь вечевую демократию» (И.Я. Фроянов) монархические тенденции, явственно обозначившиеся уже в XII столетии.
Прочная удельная власть обеспечивала стабильность, необходимую для укрепления личного земледельческого и ремесленного хозяйства, усиления городов и установления местных рынков – стягивания социальных пространств, в которых политические интересы отдельных княжеских ветвей сливались с экономическими интересами городской верхушки. Многоцентричная система социально и династически связанных, но независимых княжеств способствовала «урбанизационному рассвету»: города, исправно исполнявшие функции административных центров локальных территорий и субъектов широких торгово-экономических отношений, по-прежнему оставались коммуникационной матрицей регионального пространства.
В то же время опиравшиеся на домениальные владения княжеские кланы, оказавшись в зависимости от местной духовной и социально-хозяйственной традиции, преследуя удельные интересы, все больше вживались в бытовой уклад локальной (земской) жизни. Судьба каждого удельного правителя срасталась с судьбой его земли и города, рождая ощущение отечества – малой родины, которое, как отмечает Г.П. Федотов, «является в княжеских житиях предметом нежной и религиозной любви. В прологах к ярославским житиям она принимает форму гимнов русской земле, в которых – в зародышевой, конечно, форме – можно найти не только обоснование идеи национального государства, но и национальной культуры»[26]. Идеи, так явственно, и так отрадно прозвучавшей в житийном слове во славу Благоверного князя Александра Невского: «О светлая и пресветлая Русская земля, и приукрашенная многими реками, и разноличными птицами, и зверями, и всяческою различною тварию, потешая Бог человека и сотворил вся его ради на потеху и на потребу различных искушений человеческого рода естества, и потом подарова Господь православной верою, святым крещением, наполнив ю великими грады и домы церковными и насеяв ю боголюбивыми книгами; и показуя им путь спасения, им же доити пресветлого света и радости всех святых и райския пищи, неоскудныя Божия благодати наполнитися, но по делом нашим прияти противу трудом».
В продолжение XIV–XV вв. на волне сельскохозяйственного развития обнаружилось предпочтение деревенского типа расселения с его необходимым минимумом социальных гарантий, территориально-общинными и патриархальными внутрисемейными отношениями. Родился феномен крестъянской общины: самодостаточного и автономного «мира» – субъекта действия, совместно осваивающего новую территорию. Рождается особый надэтнический менталитет – «мы», общности, связанной общей задачей и взаимной ответственностью. На более высоком уровне это «мы» переносится на весь народ, но только таким образом, что сам народ начинает восприниматься как большой «мир»[27]. Традиции унифицировались, декларировался и утверждался обрядово-ритуальный строй жизни[28]. Договорные отношения заместились стереотипами патриархального властвования с переносом на князя и его представителей крестьянского отеческого и общественного идеала. Все явственнее осознавалась священность воли и ответственность князя перед Богом и «народом-землей» (С.Д. Домников). Сильная княжеская власть, подчинившая иерархическую организацию сословий и соединившая отеческую заботу с правом общественных решений и единоначалием военного вождя, становилась объектом сакрализации, основой освещенного Церковью авторитаризма и национальной консолидации, в полную силу заявивших о себе примерно в то же время, что и в Европе.
Примечания:
[1]Саратов И.Е. Следы наших предков // Памятники Отечества. Альманах Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. – 1985. – №32. – С. 38.
[2]Дубов И.В. Северо-Восточная Русь в эпоху раннего средневековья. – СПб., 1995. – С. 54.
[3]Арсеньева Т.М. Новые исследования в Танаисе // Вестник РГНФ. – 1999. – №3. – С. 110.
[4]Саратов И.Е. Следы наших предков // Памятники Отечества. Альманах Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. – 1985. – №32. – С. 38.
[5]Ульянкин Н.А. Откуда есть пошла русская земля. – Тверь, 1993.
[6]Седов В.В. Древнерусская народность. – М.: Языки русской культуры, 1999.
[7]Галкина Е.С. Тайны Русского каганата. – М.: Вече, 2002. – С. 325–326.
[8]В последнее время все чаще высказывается предположение о тождестве Саркела (Бел город, Белый дом) и Белгорода на Северском Донце (современный центр Белгородской области).
[9]Считается, что во второй половине VIII – начале IX вв. Битицкое городище (Сумская область Украины) было крупнейшим населенным пунктом и единственной крепостью этого ареала. Материалы раскопок – внушительные размеры, большая укрепленная площадь и сложность оборонительных сооружений, насыщенность культурного слоя предметами вооружения и конской сбруи – характеризуют Битицу не только как крупное полиэтничное ремесленно-земледельческое поселение, снабжающее продукцией обширную территорию, но и как военно-административный центр предгосударственного периода, по значимости не имеющий аналога в Восточной Европе в целом. Его полиэтниченые поселенцы являлись и носителями древностей «волынцевского типа», оказавшего большое влияние на культуру северян, и представителями кочевого этноса, что доказывают обнаруженные при раскопках жилые постройки, аналогичные юртам. Но в контексте вопроса о генезисе «власти» наиболее значимы вещественные свидетельства того, что алано-тюркские обитатели Битицы составляли управлявшую оседлым земледельческим населением политическую верхушку Северской земли. См.: Сухобоков О.В., Юренко С.П. Этнокультурные процессы на территории Левобережной Украины в 1 тысячелетии н.э. // Проблемы этногенеза славян. – Киев.: Наукова думка, 1978. – С. 78.
[10]Монеты из Девицкого клада Коротоянского р-на Воронежской области и посеймских – «1-го березовского, курского и спорного Липинского». См.: Быков А.А. Из истории денежного обращения Хазарии в VIII–IX вв. // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы. Вып.3. – М., 1974. – С. 46; Енуков В.В., Щавелев С.П. Основные направления торговых связей Курской земли в X–XIIIвв. // Торговля Курского края с древнейших времен до начала XXвека: Сб. статей и материалов. – Курск, 1996. – С. 17.
[11]Ляскоронский В.Г. История Переяславской земли с древнейших времен до пол. XIIIстолетия. – Киев, 1897. – С. 142, 292.
[12]Разведанные северские «города», расположенные, как правило, в 5–10 км друг от друга, образовывали три линии обороны. Первая проходила по Пслу (Гочевское, Горнальское, Суходольское и др. городища). Вторая, наиболее мощная, тянулась по Сейму (Липинское, Кудеярова Гора, Сугровское, Коробковское, Артюшковское, Гора Ивана Рыльского, Синайское и др.) и его притокам – Тускари (Курское, Шуклинское, Переверзево-2) и Рати (Ратское, Титовское). Третья линия была устроена на Свапе (Ратманское, Старогородское, Моисеевское, Красный Курган и др.). Александров-Липкинг Ю.А. Очерки древнейшего прошлого Курской области // Краеведческие записки. Вып.2. – Курск, 1963. – С. 161–162; он же: Далекое прошлое соловьиного края. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1971. – С. 76–77.
[13]Енуков В.В., Щавелев С.П. Основные направления торговых связей Курской земли в X–XIIIвв. // Торговля Курского края с древнейших времен до начала XXвека: Сб. статей и материалов. – Курск, 1996. – С. 17–18.
[14]Зорин А.В., Стародубцев Г.Ю., Шпилев А.Г. при участии Плаксина И.М. История изучения Курских древностей. Курский государственный областной музей археологии. – Курск, 2000. –С. 143.
[15]Горский А.А. Московский ордынский конфликт начала 80-х гг. XIVвека. Причины, особенности, результат // Восток. – 2003. – №4. – С. 9.
[16]Багалей Д.И. История Северской земли до пол. XIVстолетия с картами и рисунками. – Киев, 1882. – С. 51.
[17]Исторические факты (одновременное прекращение жизни на Битицком городище и уничтожение салтовской культуры) и летописное предание, повествующее о выплате славянами-русами хазарской дани мечами и мехами («по горностаю и по белке от дыма»), а также аутентичные документальные источники (письмо 60-м гг. X в. хазарского царя Иосифа сановнику кордовского халифа Хас-Даю Ибн-Шапруту, описывающее маршрут хазарских сборщиков дани, начинавшийся с Поволжья и завершавшийся на Дону), в качестве данников Хазарии второй половины VIII– первой половины IXвв., наряду с финно-угорскими племенами, называют вятичей на Оке, северян на Десне и приднепровских славян. См.: Артамонов М.И. История хазар / Под ред. и с прим. Л.Н. Гумилева. – Л.: Изд-во Эрмитажа, 1962. – С. 358; Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – С. 205, Рапов О.М. Княжеские владения на Руси в X – первой половине XIII в. – М.: МГУ, 1977. – С. 232.
[18]Цит. по: Рапов О.М. Княжеские владения на Руси в X – первой половине XIII в. – М.: МГУ, 1977. – С. 210.
[19] И тогда становится очевидной историческая логика автономного существования Верхней, Средней и Нижней Руси, отстоящих друг от друга на многие километры, но связанных течением рек территорий, заселенных в раннем средневековье разными народностями, среди которых росы-русы играли особую роль. В этом контексте объяснимо и появление в достаточно короткое историческое время разветвленных торговых коммуникаций трансконтинентального значения, и ход социальных и политических событий в жизни восточных славян. Подробно об этом см.: Арцыбашева Т.Н. Славяне–русы–варяги – кто они? // Вопросы истории. – 2004. – №1. –С. 118–125.
[20]Беляева С.А. Из истории охоты в Древней Руси // На юго-востоке Древней Руси. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1996. – С. 40.
[21]Моця А.П. Степень этнической интеграции восточных славян в древнерусское время // Истоки русской культуры: археология и лингвистика / под. ред. А.В. Чернецова. – М.: Русский мир, 1997. – С. 135.
[22]Пресняков Александр. На пути к единодержавию. Политический и общественный строй Великороссии в период татарского владычества // Родина. – 2003. – №11. – С. 12.
[23]Лесман Ю.М. К теории этногенеза: этногенез древнерусской народности // Петербургский археологический вестник: скифы, сарматы, славяне. – СПб, – 1993, – №6.– С. 32.
[24]Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси / [Перевод] АН УССР, Инст. Археологии. – Киев: Наукова думка, 1988. – С. 211.
[25]Шамбинаго С. Искусство Киевской Руси // Русская история в очерках и статьях // Под ред. М.В. Довнар-Запольского. – М., 1912. – С. 580.
[26]Федотов Г.П. Святые Древней Руси. – М.: Рабочий, 1990. – С. 104–105.
[27]Лурье С.В. Историческая этнология: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 1997. – С. 165.
[28]Помещаемые в кормчих книгах епископские поучения князьям и всем православным христианам, «подчеркивают необходимость твердо держаться обычаев своей страны – это становится… почти государственным делом». См.: Лихачев Д.С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого. – М.; – Л., 1962. – С. 157.