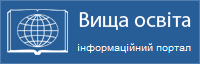Злотникова Тетяна Семенівна, доктор мистецтвознавства, профе-сор кафедри культурології Ярославського державного педагогі-чного університету імені К.Д. Ушинського (Ярославль, Росія).
Бинарная оппозиция «провинция/столица»
в контексте трансформаций культуры России в течение 250 лет
Русскую провинцию необходимо рассматривать какисторически сложившийся культурный феномен. Своими корнями это явление уходит в сформулированную Н. Бердяевым закономерность: «С внешней точки зрения огромные русские пространства представляются географическим фактом русской истории. Но с более глубокой, внутренней точки зрения сами эти пространства можно рассматривать как внутренний, духовный факт в русской судьбе. Это – география русской души».
В русской традиции особенно отчетливо актуализировался тот факт, что смысл понятия «провинция» определяется через оппозицию к понятию «столица».
В научной литературе и в художественных текстах нередко в качестве синонимов употребляются такие понятия, как «провинциальный», «региональный», «локальный»; в то же время нельзя утверждать идентичность этих понятий – скорее корреллирующий характер. При изучении аксиологических смыслов и контекстуальных связей другого ряда понятий – «провинция», «провинциал», «провинциальность», «провинциализм» - подчас устанавливается диалектика различения и неразличения позиций внутреннего и внешнего описания, семантики слова «провинция». При этом позиция современных исследователей провинции как историко-культурного феномена основывается предположении: «Под провинциальным подразумеваем не оценочную характеристику (даже в сравнении со «столичным»), а то, что относится не к столицам…» (С. Шмидт).
Бинарная оппозиция «столица-провинция» типична для имперского сознания, и потому историки первого «человека из провинции» обнаруживают в ХVIII в., когда в России складывалась имперская атрибутика, а в лексиконе укрепляется само слово провинция. Появление провинции в современном смысле можно отнести к периоду царствования Петра I. Именно тогда периферийные города превращаются в административные центры; в столице сказывается влияние европейской культуры, оно закрепляется там в противовес сохраняющейся в неприкосновенности на периферии народной, традиционной культуре. Отсюда делается вывод о формировании в России двух субкультур: столичной как инварианта европеизированной и провинциальной как инварианта традиционной. По мнению автора журнала «Современник» конца 1840-х гг., «со времен Петра Россия, обратив взоры на Европу, стала считать себя как бы ее провинцией… Можно сказать, что в отношении к Европе Петербург – провинциал первой руки, Москва – второй, а остальная Россия – третьей». Тогда же, по-видимому, сложились две конфликтные ситуации: во-первых, противостояние между европеизированной, новой русской культурой и культурой традиционной, опирающейся на фундамент Древней Руси с ее крестьянскими общинами; во-вторых, противоречия между самостоятельно оформившимися социокультурными феноменами города и деревни. Город стал восприниматься как прибежище новой, окрашенной часто негативными коннотациями культуры и источник ее распространения, деревня же – как место сохранения старых культурных ценностей (альтернативы пьесы Л. Толстого «Власть тьмы»).
Первый наиболее простой и ограниченный конкретными пространственными рамками круг представлений о провинции: в России – это все, что отдалено от города, вернее – от столицы, от поверхностных признаков цивилизованного быта. Второй – провинция отстает от столиц в количественных масштабах.
Известны как минимум два варианта отношения провинции к центру. В одном случае культурная провинция рассматривается применительно к современным западным странам и к России ХIХ – начала ХХ вв. (надежные репродуктивные механизмы позволяют относительно синхронно транслировать и воспроизводить культурные образцы, формируемые в центрах; отсюда проистекает близость проявлений лондонской и парижской, петербургской или нижегородской и ярославской, в любом случае – городской жизни). Во втором случае провинциальная жизнь рассматривается как проявление более низкого уровня культуры и воспринимается вне передовых культурных образцов, вне новых умений и потенций усвоения этих образцов, в контексте прошлого, а не будущего. В этимологической оппозиции «столичное – провинциальное» последнее имеет чаще всего отрицательные коннотации.
Разделение русской культуры на «столичную» и «провинциальную», в числе прочего, опирается на историю развития страны, отличную от истории развития стран Западной Европы. Особенностями России в этой связи являются относительная небуржуазность (как функция от национального характера) и сверхцентрализация общества (берущая свое начало в эпохе «складывания» колоссального государства).
Рядом с оппозицией«столица – провинция» сложилась и другая оппозиция: «Петербург – Москва и провинция».
Своеобразие российского варианта культурной антитезы столицы и провинции заключается в том, что своя провинция есть и в столичных городах XIX века: в Москве – Замоскворечье, в Петербурге – Коломна или Выборгская стороны. Различается и «тонус» двух столиц: «В Москве отдыхают. Здесь всякий может дурачиться как хочет, жить и умереть чудаком» (К. Батюшков) – то бишь провинция становится местом исполнения прихотей, в то время как столица – местом исполнения долга. «За что Россия любила Москву? За то, что узнавала в ней себя. Москва охраняла провинциальный уклад, совмещая его с роскошью и культурными благами столицы. На нем лежит печать светлой наивности, доброй здоровой лени. Здесь нет ни капли петербургского излома, мучительства – зато и нет мучительной напряженности и поиска» (Г. Федотов).
Представляется возможным установить не сами по себе пространственные характеристики, но хронотоп русской провинции. Последняя предстает как явление специфическое, мало зависимое от географических координат, имеющее корни в душе человеческой не менее, чем в истории. Это и пространство, расположенное на тысячи верст вокруг Москвы или Петербурга; это и время, которое нужно затратить человеку не столько на путь по городам и весям, сколько не преодоление духовных различий с динамичными (а подчас и циничными) согражданами; это и настроение, отмеченное мечтательностью и тоской, охватывающее на нешироких улицах, на проселочных дорогах, среди полуоблупившихся простеньких или претенциозных домов.
Пространственные характеристики провинции простираются не только в горизонтальном, но и в вертикальном измерении. Традиционно считалось, что «опуститься» в провинцию означало умереть, но одновременно прикоснуться к нарождающемуся новому; провинция аналогична смерти, чреватой рождением. Прибытие из центра на периферию, прежде всего в художественной провинциологии, выглядит как спуск, погружение; по наблюдениям исследователей, для изображения Москвы и отдаленных местностей характерно панорамное видение сверху. В свою очередь, провинция по отношению к Москве расположена внизу, в силу чего в ХХ в. появляется такой публицистический штамп, как «глубинка».
Для русской культуры, в том числе пребывающей в состоянии болезненного переживания рубежа веков (как ХIХ и ХХ, так и ХХ и ХХI), мало приемлем традиционный для мировой культуры принцип соотнесения провинции со всем остальным миром. Европейская культура ХХ в. развивалась, исходя из представления: неважно, где, важно, как и кто. Европейцы, а тем более американцы мобильны по определению, к месту не привязаны, эту привязанность (в том числе и в метафорическом смысле) не драматизируют.
Особые нравственно-психологические интенции делают географическое пространство провинции подвижным: это всегда то место, где житель сейчас находится, ставшая привычной среда обитания. У А. Чехова это был Таганрог по отношению к Москве, Москва – по отношению к Петербургу, Россия – по отношению к «загранице», Швейцария – по отношению к Италии или Франция, Европа – по отношению к Америке. Отсюда для России традиционна стеснительность, своего рода комплекс «житомирского кузена» (М. Булгаков), когда провинция и провинциал рассматриваются как явление и человек «второго сорта.
Существенным отличием столицы и провинции в России ХХ в. остается различие объемов пространства для маневра. Для провинции это чаще всего вектор, выводящий субъект культуры за естественные географические пределы: традиционным является стремление из провинции в столицы (в художественной жизни это касается театра, музыки, эстрады); заметно сокращается в силу экономических причин и внутрипровинциальная миграция, известная по персонажам пьес А. Островского как передвижение «из Керчи в Вологду». Возрастает и изоляция провинции: в отличие от существовавшей в тоталитарном государстве квоты на участие в столичных вернисажах (показ в столице как форма поощрения) стала настойчиво внедряться мысль о самодостаточности провинции. Эта идея выступает как способ компенсации для самих провинциалов и возможность для столицы отчуждения от трудноразрешимых провинциальных проблем.