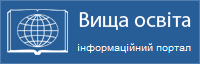Єрохіна Тетяна Йосифівна, доктор культурології, доцент, завіду-вач кафедри культурології Ярославського державного педагогі-чного університету імені К.Д. Ушинського (Ярославль, Росія).
«Символист как культурно-психологический тип: ментальные характеристики»
В докладе выявляютсяи обосновываютсяличностно-психологические аспекты ментальности символиста, сформировавшиеся в русской культуре конца XIX – начала ХХ вв.
На основании определения символизма как ментальной модели русской культуры конца XIX-начала ХХ вв., мы считаем возможным изучение личности русского символиста как культурно-психологического типа, обладающего особой ментальностью. Разносторонний культурологический подход к изучению творческого наследия символистов, включающего наряду с художественными текстами как теоретические работы по проблемам генезиса и эволюции символизма в русской культуре, так и дневники, мемуары, эпистолярные документы, позволяет выявить онтологические характеристики ментальности символиста.
К таким характеристикам мы относим, прежде всего, специфическое понимание творческой личности. Мы с одной стороны опираемся на сложившееся в России последних двух десятилетий понимание творчества и концепции творческой личности как таковой, с другой стороны - исходим из аутентичной трактовки (А. Белый, В. Брюсов, Вяч. Иванов), которая определяет символиста как личность, ориентированную на познание, преображение действительности, создание новой реальности, постижение истины, и – особо важно - конструирование повседневной жизни и быта в процессе творческой деятельности.
Поэтому мы определяем культурно-психологический тип символиста как творческую личность, которая моделирует себя как продукт творчества. При этом в творческом процессе создания личности символиста принимает участие достаточно большое количество «действующих лиц»: сам художник, творящий себя в процессе культивирования в себе ряда определённых черт, современники (оппоненты и соратники), способствующие мифотворчеству личности символиста, читатель/зритель, то есть аудитория, воспринимающая личность символиста, прежде всего, сквозь призму его творчества, к которому мы относим как художественные произведения, так и повседневный быт символиста.
Мы не считаем возможным моделирование универсальной личности символиста, поскольку понятие «личность символиста» является скорее метафорой. Оно отражает наиболее характерные черты личности художника, который сформировал культуру символизма и сам был сформирован эпохой символизма. Эта личность, несмотря на все мировоззренческие, индивидуальные, физиологические, личностные, психические и психологические отличия символистов в каждом конкретном случае, имеет типологические характеристики, которые вариативно воплощены (интерпретируются) в личности символиста. Это соответствует наблюдению Ф. Степуна о жизни России: «что ни человек – то модель».
Помимо установки на творчество, к ментальным характеристикам личности символиста относится онтологически детерминированная двойственность, противоречивость, «разорванность». Генезис двойственности личности символиста, с одной стороны, отражает «кризисность», «рубежность» эпохи, с другой стороны, она связана с традицией «присвоения» в ментальной модели русской культуры. В данном случае речь идёт о присвоении художественного опыта романтиков, противоречивость личности которых достаточно глубоко освещена в исследовательской литературе. Двойственность символистов найдёт своё воплощение в самых разных вариантах: от обращения к платоновскому делению мира на мир Идей и мир Вещей в философской концепции бытия, двойственности язычества и христианства, идеального и реального мира, лицо и маска. Двойственность задаёт бинарную систему координат, которая либо фиксирована и осознаётся как непреодолимый разлад мироздания старшими символистами, либо преодолевается в искомом синтезе младшими символистами. Эта черта ментальности является онтологической и потому, что практически все остальные черты будут заданы именно в этой бинарной системе координат.
Так, к числу характеристик ментальности символиста относится тяготение к рефлексии и саморефлексии и установка на интуитивное постижение истины. Символисты, принимая интуитивистскую концепцию А. Бергсона, с одной стороны, призывают к поиску истины через мирочувствование, к которому относится угадывание, поэзия намёков (П. Верлен, З. Гиппиус), ясновидение, пророчество (А. Рембо, Вяч. Иванов), «прозревание» сквозь вещный мир мира истинного (Ш. Бодлер, А. Белый); с другой стороны – создание аналитически выверенной, научной поэзии (С. Малларме, В. Брюсов), поиск аналогий и претензия поэзии на философскую концепцию (А. Белый, Д. Мережковский).
В том же ракурсе актуализируется тяготение символизма к мистицизму и одновременно детализации в художественной манере, что создаёт почти сюрреалистические картины мира. Мистицизм символистов отвечает декадентским установкам эстетизации зла, символистскому представлению о тайне мира, постигаемой мистическим путём (А. Белый, В. Брюсов, Вяч. Иванов), стремлению к эзотерическим знаниям.
Двойственность, характеризующая ментальность личности русского символиста, определяется и через соотношение индивидуализма, базирующегося на романтической концепции исключительной личности, и соборности как черты русской ментальности. Установка на индивидуализм, уникальность, маргинальность каждого символиста становится, в итоге, типологической чертой ментальности русского символизма, а проявление соборности на творческом уровне приводит к формированию феномена «кружков» в русском символизме, значительное количество которых, наряду со знаменитыми встречами символистов («среды», «четверги», «субботы») отмечают многие современники.
К ментальным чертам личности относится и эстетизм, проявление которого в пространстве повседневности, жизнетворчестве, театрализации, в силу своей значимости, требует отдельного рассмотрения.
Таким образом, в докладе утверждается, что в русской культуре сложился особый культурно-психологический тип символиста, наряду с типом романтика и декадента, поскольку на рубеже XIX-XX вв. сложились «каноны символистского мироощущения» (Ф. Степун), сформировались «типажные черты определенной части интеллектуальнойэлиты эпохи» (Г. Стернин), способствовавшие формированию элитарности культуры русского символизма.