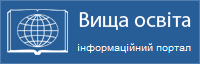Хрєнов Микола Андрійович, доктор філософських наук, профе-сор, заступник директора з наукової роботи Державного інсти-туту мистецтвознавства Міністерства культури Російської Фе-дерації (Москва, Росія).
Культурология как «русская наука»: локализация или универсализация культурологического пространства?
Возникновение в последние десятилетия ХХ в. в России науки о культуре и ее интенсивное развитие в настоящее время объясняется не только внутренними для науки причинами, но социальной историей, в частности, крахом коммунистической идеологии. Утверждение этой идеологии во многом было причиной невнимания к культуре, а, следовательно, и к науке о ней на протяжении всей первой половины ХХ в. Эта идеология претендовала на осуществление тех функций, которые в истории всегда осуществляла культура как институт, способствующий выживанию больших человеческих коллективов. Поскольку ставилась задача построить общество, которого в истории еще не существовало и поскольку его следовало построить в короткие сроки, то развертывалась всеобщая мобилизация, понижающая значимость этнических, национальных и конфессиональных факторов, а вместе с ними и культуры в целом. Утверждение, а затем и крах наднациональной и надконфессиональной идеологии вызвали к жизни социальный контекст культурологической рефлексии, которого не существовало в других странах и способствовали созданию в России исключительной ситуации для становления науки о культуре. Смена контекста для некоторых западных культурологов, например, Л. Уайта является решающей при определении того, что такое культура. Конец ХХ в. в России вернул к упраздненному тоталитарным режимом контексту, но в то же время и способствовал его осознанию, что стало исходной точкой становления в этом регионе науки о культуре. Проблема, следовательно, заключается не в том, существует ли сходство в представлениях о культуре между Россией и другими станами, например. западными, а в том, можно ли считать, что Россия сегодня выдвигает какую-то особую концепцию культуры, которая не повторяет того, что существует в западной науке, но в то же время имеет право на существование и, возможно, утверждает одну из парадигм в науке о культуре вообще. При ответе на этот вопрос необходимо представлять крах идеологии не внутренним для России процессом. По сути, в этом, казалось бы, специфическом для России явлении проявилось нечто большее, затрагивающее общие для других народов процессы истории. Крах идеологии является в то же время крахом того мировосприятия, которое возникло еще в эпоху Просвещения и которое Ю. Хабермас называет мировосприятием модерна. Это обстоятельство требует более широкого освещения развертывающихся в России процессов. Именно это обстоятельство диктует поставить вопрос: способна ли Россия в лице ученых, представляющих культурологию, выдвинуть какую-то идею, которая бы в ситуации угасания модерна как универсального мировосприятия, оборачивающегося сегодня повсеместно распространяющимся в мире хаосом, могла бы продемонстрировать свою жизнеспособность не только для России, но и для других цивилизаций. Возможно, осветить такой вопрос еще не наступило время. Однако можно попытаться понять те стихийные и пока еще не во всем осознаваемые (в том числе, и в соответствии с культурологическими процедурами) процессы распада модернистских установок в форме разложения скомпрометировавшей себя идеологии и одновременно процессы, свидетельствующие об альтернативной модерну традиции, характеристика которой дана П.Сорокиным в его фундаментальном исследовании о социодинамике культуры, уже можно. Мы, опираясь на имплицитные форму культурологической рефлексии (а в России это очень конструктивные формы, связанные с искусствознанием, филологией и философией, о чем свидетельствуют концепции Бахтина, Лотмана, Аверинцева и др.), исходим из потенциала романтизма как антагониста просветительской (модернистской) тенденции. Именно эта альтернативная модерну традиция и является сегодня для России определяющей, что не соответствует установкам, существующим в других параллельно существующих цивилизациях, все еще продолжающим исходить из установок модерна. Модерн и Романтизм давно уже стали вневременными константами, которые во многом продолжают определять существующие в современной науке установки. Даже постмодерн в оппозиции модерну выступает лишь в том случае, если опирается на традицию романтизма. Фиксируемая нами в истории оппозиция позволяет точнее разобраться в методологических подходах, имеющих место в настоящее время в культурологии. На наш взгляд, становление самой культурологии в России на рубеже ХХ-ХХ1 вв. прямо связано с возвращением к романтической традиции, не принимающей, как известно, идеи прогресса. Просветительская (модернистская) позиция способствует утверждению в культурологии позитивизма. В этом случае культурология имитирует подходы, существующие в естественнонаучном знании, не используя тот потенциал, что существует в гуманитарных науках. Такое направление в науке, как культурная антропология в ее американском варианте может служить иллюстрацией этой тенденции. Существует ли в современной культурологии альтернатива позитивизму? Мы ее связываем с традицией, возникшей в эпоху Романтизма. Предметом этой традиции является личность, т.е. индивидуальные, а не коллективные феномены, которые культурологи пытаются найти в культуре. Правомерно ли перенесение методов, применяемых при исследовании примитивных обществ, на осмысление процессов, существующих в современных индивидуализированных обществах? Разве не свидетельствует имеющее сегодня место в России непонимание между искусствоведами и культурологами в том, что культурология пока не обогащает искусствоведов необходимыми для них знаниями? Это обстоятельство свидетельствует о необходимости развертывания потенциала, существующего в комплексе гуманитарных наук. В соответствии с А. Кребером, выдающиеся личности полнее выражают культурные модели и возникающие в их границах ценности. Потенциал гуманитарных наук далеко еще не исчерпан, в том числе, в представлениях о культуре. Успехи, имеющие место в таких науках, как филология и искусствознание, свидетельствует не только о влиянии культурологии на эти науки, но и об обратном воздействии названных наук на эксплицитную культурологию.