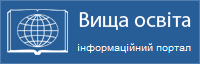Відеркер В’ячеслав Володимирович, кандидат культурології, доцент кафедри теорії, історії культури та музеології Новоси-бірського державного педагогічного університету (Новоси-бірськ, Росія).
Проблема метаязыка в культуре символизма
В данной работе исследуются типы соотношений языка и текста в русском и западноевропейском вариантах символизма – художественно-эстетического направления в культуре рубежа XIX–XX вв. Методологическим основанием для анализа служит разработанный Тартуско-московской семиотической школой (Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, В. Н. Топоров) семиотико-типологический подход.
Согласно данному подходу фундаментальное значение в культуре имеет оппозиция «язык / текст», где «язык» – это упорядоченная система знаков, устанавливающая репертуар знаков, их значения и правила сочетания, а «текст» – это актуализация правил языка, любое сообщение на каком-либо языке. Язык и текст принципиально не сводимы друг к другу, ибо текст обладает такими элементами, не выводимыми из языка, как смысл текста, композиционная рамка, то есть начало и конец текста. Кроме того, язык есть абстрактная система, потенциальная возможность генерирования текстов, а текст есть реальность, причем текст, как правило, полилингвистичен, то есть продукт актуализации правил нескольких языков.
Существуют особые виды текстов – «метатекст» и «метаязык». Метатекст – модель самоописания культуры – организует разрозненные тексты в условную целостность и выполняет моделирующую функцию по отношению к современной ему культуре. Исследователь культуры зачастую субъективно воспринимает ее метатекст как некое отражение исторической реальности данной культуры. В этом случае анализируются не глубинные свойства культуры (типология культуры), а рассматриваются тексты сквозь призму метатекста. Метаязык – это язык, используемый для описания другого языка. Символизм с момента возникновения был ориентирован на язык, уже в «Манифесте символизма» (1886) Ж. Мореас ставил своей целью изложить его грамматическую систему, идеальные правила построения текстов. В символистских художественных текстах значительное место занимают метаязыковые структуры.
Бинарная оппозиция «циклично-континуальный код / линейно-дискретный код» является фундаментальной структурообразующей оппозицией культуры. Данная антитеза генетически восходящая к биологическому принципу асимметрии полушарий головного мозга инкорпорирует в себя все множество бинарных оппозиций, в том числе пару «мифологическая картина мира / историческая картина мира». В перспективе типологического подхода феномены «мифологическая картина мира» и «историческая картина мира» суть самостоятельные культурные структуры, организованные на противоположных принципах. Так, например, свойством мифологического сознания является циклическое время, а исторического – линейное время. Будучи постоянно действующими факторами реального культурно-исторического процесса мифологический и исторический коды представляют собой две взаимно дополнительные тенденции, причем в каждом конкретном культурно-историческом периоде одна структура занимает доминирующую позицию, а вторая подчиненную.
Символистская картина мира моделировалась преимущественно инструментарием мифологического кода в отличие, например, от реалистической картины мира в которой доминировал исторический код. В основе концепции символизма лежит представление о том, что весь мир пронизывает система соответствий (А. Блок «Мир полон соответствий»). Система соответствий устанавливалась как по оси синхронии, например, А. Рембо в сонете «Гласные» дает соответствия между гласными звуками и цветами, так и по оси диахронии, когда каждое событие настоящего мыслится как уже многократно повторявшееся в прошлом, и которое еще неоднократно произойдет в будущем. Принцип изоморфности разножанровых текстов был положен в основу конструкции Символа, который аккумулировал в себя множество смыслов и имел неограниченный горизонт интерпретаций. Так, символ Прекрасной Дамы А. Блока вбирал в себя одновременно и Вечно Женственное, и Россию, и образ Л. Д. Менделеевой и многое другое. Принцип изоморфизма, доведенный до логического предела, сводит все тексты к некоему единому тексту, а если использовать язык символизма, то все символы сводятся к единому Символу (Вяч. Иванов).
Символисты рассматривали «тексты искусства» (сфера художественного творчества) и «тексты жизни» (сфера практического поведения) как изоморфные и «мерцающие» друг в друге. Перенос художественных текстов в сферу повседневности привел к тому, что непрерывный поток реального существования членился на дискретные фрагменты, в которых выделялись – «сюжет», «начала и концы», «персонажи». В реальной жизни как значимые выделялись те факты, в которых можно было усмотреть аналогии с «текстами искусства», и напротив, нивелировались те факты, которые нельзя было «привязать» к какому-либо «тексту искусства» (достаточно вспомнить роман А. Блока и Л. Менделеевой). На практике это приводило к высокоритуализированному поведению, ибо человек, принимая на себя роль определенного персонажа, был вынужден придерживаться присущего этому персонажу сценария поведения.
В пародийном ключе обыграл подобную ситуацию Андрей Белый в романе «Петербург». Софья Петровна Лихутина символически переживала пространство моста через Зимнюю канавку, ассоциируя его со сценой оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама». Себя Софья Петровна отождествляла с Лизой, а Николая Аполлоновича Аблеухова с Германом. Когда же Аблеухов нарушил с точки зрения Лихутиной «роль Германа» (Аблеухов, облачившись в красное домино, предпринял неудачную попытку испугать Лихутину, которая окончилась комическим падением), это в сознании Софьи Петровны привело к полному разрушению ассоциативной связи, ибо, если Аблеухов «не является» Германом, значит она «не является» Лизой.
На основе результатов сопоставительного анализа русского и западноевропейского вариантов символизма мы пришли к выводу, что глубинное отличие между ними заключается в характере отношений между метаязыковыми системами описания текстов и самими текстами (эмпирической реальностью). Для западноевропейского символизма, который в целом развивался как литературно-художественная школа, характерно разграничение текстов и грамматик, которые существовали как два непересекающихся множества. Западные символисты никогда не смешивали искусство и действительность, их концепции не были рассчитаны на воплощение в реальной жизни. Иная ситуация сложилась в русском символизме, где грамматика воспринималась как нечто значительно более ценное, чем тексты. В результате тексты жизни и тексты искусства рассматривались как реализующие одни и те же заданные грамматические правила. Целью русского символизма было реальное преобразование действительности (идея жизнетворчества) на основе системы идеальных правил. Попытки практической реализации идеи жизнетворчества привели к череде трагедий в жизни русских символистов, что продемонстрировало антиномию между языком и текстом – одно из главных структурных противоречий культуры символизма.