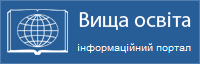Густякова Дарія Юріївна, кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри культурології Ярославського державного пе-дагогічного університету імені К.Д. Ушинського (Ярославль, Росія).
«Театральная интерпретация классической оперы в контексте массовой культуры»
Взаимоотношения классики и массовой культуры всегда отличались драматизмом и противоречивостью. Эксплуатация лучших достижений в сфере художественной культуры, апелляция к вечным ценностям, воплощенным в произведениях искусства – это важнейшее условие функционирования и воспроизводства массовой культуры. Массовая культура активно «включает» классику в свое пространство в качестве объекта интерпретации, аутентичного текста и источника цитат (интертекстуального элемента).
В этой связи логично, что оперный театр не остался в стороне от современных тенденций и периодически представляет вниманию аудитории классические русские оперы, в трактовках которых явно прослеживаются признаки и принципы функционирования массовой культуры. Признаки массовой культуры в целостном оперном тексте становятся очевидными при изучении практики интерпретации классических опер на театральной сцене. Мы наблюдаем серьезные изменения, связанные с функционированием, социальной репрезентацией жанра, а также с модификацией стилистических и драматургических особенностей конкретных опер. Основополагающим в данном процессе становится фактор режиссерской деятельности, когда, в ходе постановки, авторский замысел переосмысливается, и классическая опера трансформируется в принципиально новое музыкально-драматическое произведение.
Одним из характернейших опытов такого рода мы полагаем сценическое прочтение оперы П. Чайковского «Евгений Онегин» режиссером-сценографом Д. Черняковым. В течение всего действия в центре сцены находится огромный стол, за которым сидят и едят многочисленные гости-наблюдатели. Такой постановочный прием вызывает ряд бытовых и художественных ассоциаций. В первую очередь, тема контраста тягучей обыденности и вселенского трагизма лежит в русле чеховской традиции. Помимо этого, «кадр» со столом и стульями – это, с одной стороны, аллюзия на фильм Л. Бюнюэля «Скромное обаяние буржуазии» с его постоянно обедающими персонажами, и, с другой стороны, отсылка к комедии А. Грибоедова «Горе уму» в постановке В. Мейерхольда, где передний план сцены также занимал длинный стол.
Эстетически не поддержанная музыкальной тканью оперы и сформированная режиссером эклектика стала смыслообразующей особенностью спектакля, что проявляется, во-первых, в игре актеров (сочетание психологически достаточно убедительных, с точки зрения актерского мастерства, эпизодов с шаблонными и заученными телодвижениями), во-вторых, в реализации принципа анахронизма. Еще один аргумент в пользу масскультовского дискурса в «классическом» спектакле, – явные признаки культурного билингвизма или «бикультурности». В постановке Россия А. Пушкина и П. Чайковского превратилась в стереотипное изображение «некоей» восточноевропейской провинции. С точки зрения масскультовского контекста, это, тем не менее, вполне логично: демонстрация русского помещичьего быта менее понятна европейскому зрителю (на чье восприятие в первую очередь и рассчитан «гастрольный» спектакль), чем быт «вообще» буржуазный, в котором, например, закономерным оказывается отсутствие крестьян.
Масскультовский контекст присутствует и в режиссерском прочтении центральных персонажей оперы. Д. Черняков выводит на сцену не столько провинциальную, сколько аутичную Татьяну. Аутизм – модный и широко эксплуатируемый в массовой культуре последних десятилетий XX века диагноз. В спектакле Татьяна – это женская ипостась «человека дождя», она ходит по сцене лицом к окнам, спиной к людям, вне музыкальной и сюжетной логики то цепенеет, то впадает в истерику. Следует подчеркнуть, что главная героиня и в музыкальной составляющей оперы существует в эмоциональном контрапункте со всеми другими персонажами, что было задумано самим П. Чайковским. Но режиссер, оттолкнувшись от авторского текста, идет дальше, последовательно воплощая представление о буквально безумной Татьяне. И в этой гиперболизации и спрямлении авторского замысла опять же читается влияние массовой культуры.
В итоге можно утверждать, что Д. Черняков, не подвергнув звуковой ряд оперы сокращениям, наполнил визуальный ряд спектакля «масскультовскими» смыслами, создав, по сути, контрапункт к авторскому (композиторскому) тексту. Зритель может, как в старину, закрыв глаза, слушать музыку; но может и пренебречь ею, потому что все происходящее на сцене отвлекает от звучания оркестра и вокальных номеров, ибо звуковой ряд засорен не предусмотренными композитором выкриками и звоном столовых приборов, визуальный – обилием действующих лиц и постоянной суетой на сцене. Классическая музыка не просто уходит на задний план, она девальвируется, ей, по законам массовой культуры, отводится роль трека, фона, сопровождения, имеющего лишь прикладное значение. Музыке П. Чайковского в постановке Д. Чернякова просто «разрешили» звучать, превратив ее в служебный, функциональный, второстепенный фрагмент текста.
В качестве «экспортных продуктов» изначально были реализованы и такие оперные постановки, как «Пиковая дама» П. Чайковского в сценической версии режиссера А. Галибина и «Игрок» С. Прокофьева в постановке Д. Чернякова. Контекст массовой культуры и в этих спектаклях проявляется лишь в визуальном пласте, при этом в музыкально-вербальной составляющей сохраняется аутентичность.
В «Пиковой даме» А. Галибина отсутствует целостность решения. Режиссер не решил окончательно, делает он академическую постановку или новаторскую, не определился с концепцией спектакля: либо символизм, либо романтизм, либо бытовой психологизм, либо их совмещение на разных уровнях. Здесь нет ни среза, ни целостности – среди бытовых эпизодов вдруг возникают намеки на инфернальность. Спектакль дробится, превращаясь в мозаику, микс, удобный для восприятия массовой аудитории, но далекий от возможности раскрытия содержания оперы. «Пиковая дама» П. Чайковского уникальна, в ней композитор попытался совместить психологический пласт лирической камерной оперы и подчеркнуто-условной пласт театрально-декоративной пасторали, вероятно, исходя из этой логики, и надо было решать этот спектакль, не загружая его эклектичностью и несоразмерностью стилистических решений – бытовых, романтических, символистских. В данной постановке выявляются следующие признаки массовой культуры: преобладание репродуктивного начала над творчеством; актуализация в игре актеров характерных особенностей поведения «человека массы»; внешняя зрелищность и формальная иллюстративность сценографии и режиссуры, их порой наивная прямолинейность, подменяющая мысль «картинкой», а смысл банальностью; отсутствие целостности и последовательности режиссерского решения.
В отличие от «Пиковой дамы» в постановке А. Галибина, решение Д. Черняковым оперы С. Прокофьева «Игрок» смотрится цельно и убедительно, при этом, судя по всему, постановщик действовал в логике функционирования массовой культуры, стремясь к простоте, доступности, привычности, необременительности и удобству для восприятия публики. Несмотря на явный масскультовский контекст, постановка «Игрока», в отличие от «Евгения Онегина», не выглядит прямой провокацией. С одной стороны, эта опера, несомненно, является классикой, с другой стороны, у нее нет того театрального шлейфа, который есть у «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы». Оперу «Игрок» нельзя отнести к разряду популярной классики, она не на слуху, не эксплуатируется так часто массовой культурой, что объясняется, в первую очередь, ее музыкальным языком. Возможно, поэтому в «Игроке» легче воспринимается любое динамическое изменение, по сравнению с первоисточником. Режиссер в данной постановке выдвигает на первый план вечные темы, которые легко трансформируется в современные: «вся наша жизнь – игра», жажда денег, любви, признания, непонимание окружающих, лудомания. Так как массовая культура уверенно базируется на «плацдарме» вечных тем, то любые элементы приближения к современности на визуальном уровне постановки текста данного классического произведения воспринимаются достаточно спокойно.