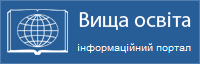Уваров Михайло Семенович, доктор філософських наук, профе-сор кафедри философської антропології Санкт-Петербурзького державного університету (Санкт-Петербург, Росія).Парадокс как начало культурологического знания.
Парадокс как начало культурологического знания.
Одним из малоисследованных приемов введения в сферу культурологического знания является формулировка и разрешение гуманитарных парадоксов, отличающихся по своей природе от парадоксов естественнонаучного и математического знания. Главное отличие между ними заключается в том, что формулировка гуманитарного парадокса не требует строгих логических операций, а зачастую и приближения к этой степени строгости. Все основные виды парадоксов естественнонаучного и математического знания (антиномии, апории, семантические парадоксы и др.), так или иначе, опираются на Аристотелеву формальную логику и ее дальнейшее совершенствование и интерпретации в истории науки.
Акцентирование вопроса о парадоксальном задании проблемы как «начале» культурологии, а также о принципиальной парадоксальности теоретических схем, заложенных в понимание культурологии как «чистой науки» (И. Кант), в частности, позволяет вызвать повышенный интерес аудитории и заострить внимание на «очевидном-невероятном» как классической, так и современной гуманитарных парадигм.
Исследование культуры во все времена было связано со стремлением отстоять сферу свободного мышления, не скованного априорными логическим процедурами. Итогом культурологической мысли XX столетия можно считать выявление того факта, что культура носит знаково-символический характер и не может читаться в режиме одно-однозначного соответствия выявленных кодировок.
Для иллюстрации проблемы гуманитарного парадокса существует богатый материал в различных областях знания. Исследователь имеет возможность использовать конкретные примеры (из истории лингвистики, литературы, живописи, музыки, кинематографа, исторического знания и т.д.), который близки его профессиональным интересам. Опыт работы в данном направлении показывает, что и студенческая, и более сведущая аудитория живо воспринимает такой способ вхождения в культурологическую проблематику.
Не секрет, что парадоксальность имманентно включена в структуру культурологического знания по самому основанию определения науки о культуре.
Проблема начинается уже тогда, когда мы пытаемся дать более-менее общее определение культуры. Смысл определений основывается на спецификации культурологического знания по признаку культурной идентичности. Здесь приходится иметь дело с такими парадоксами, как феномен происхождения культуры, противоречие между «логом» цивилизации и «душой» («мелосом») культуры, проблемой так называемой «третьей природы», в основании которой лежит вопрос о различении/неразличении социального и культурного пространств человеческой деятельности.
Последний парадокс связан с тем, что понятие «социогуманитарное знание», употребляемое, как правило, некритически, по целому ряду причин неадекватно в области культурологии. Культура является особым онтологическим феноменом, не сводимым к социальному. Сведение же культуры к социальному неизбежно приводит к заимствованию методов, приемов и эмпирического материала из смежных, но не сводимых к культурологии, областей гуманитарного дискурса. Отсюда – до сих пор имеющееся явное неприятие большой частью гуманитарного сообщества культурологического знания как особой научной области.
На мой взгляд, если не достигнуть более-менее общего понимания проблемы различения социального и культурного, трудно рассуждать о какой-либо специфике культурологического знания. Всегда найдется историк, социолог, филолог или же философ, который аргументировано «разгромит» любой культурологический текст, просто заменяя критерии культурологического исследования своими профессиональными, связанными все с той же «социокультурностью».
В более конкретном плане разговор о культурной специфичности возможен тогда, когда мы выявляем парадоксальные черты образного мира, созданного художником. Автор доклада в своей работе использует примеры из творчества великих писателей (Данте Алигьери, В. Шекспир, А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, В.В. Набоков) и композиторов (Л.В. Бетховен, Р. Вагнер, П.И.Чайковский, М.П. Мусоргский, Д.Д. Шостакович. А.Г. Шнитке), философов и культурологов (Г.В.Ф. Гегель, С. Кьеркегор, Ф.Ницше, Л. Шестов, Н.А. Бердяев), из истории изобразительного и киноискусства и мн.др.
Суть формулировки такого рода парадоксов может заключаться как в анализе изменений в замысле произведения, так и отношений между его героями. Предметом анализа могут быть также отношения в сфере «искусство-жизнь», «искусство-история», «герой-прототип» и т.п. Важно, что парадоксальность ситуации выявляется не на уровне конкретного художественного (исторического) текста, а на семиотико-герменевтическом и отчасти феноменологическом уровне анализа текста культуры. Таким образом, формулировка гуманитарного парадокса как начала культурологии означает один из возможных вариантов синтеза гуманитарного знания, который так или иначе свойствен культурологической парадигме. При этом культуролог не претендует на конкретную область анализа специалиста-филолога или, например, историка, то есть выполняет ту работу, смысл которой хорошо раскрывается в творчестве таких выдающихся мыслителей, как Ю.М. Ломан, В.Н. Топоров, М.М. Бахтин.
Культура, каким образом понимал ее еще О. Шпенглер, является особой моделью объяснения мира, средством описания структуры житейских отношений. Отойдя от терминологии начала XX века и выражаясь современным языком, можно сказать, что культура есть система допущений, принятых как данность, как особый парадоксальный код действительности.